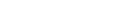В Международный день борьбы с детским раком 15 февраля редакция «Горкома36» поговорила с заведующей онкогематологическим отделением химиотерапии областной детской клинической больницы №1 главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения Воронежской области детским онкологом, гематологом Натальей Юдиной.

- Наталья Борисовна, как в нашем регионе зарождалась детская гематологическая служба?
- Воронеж был одним из первых городов в России и первым в центральном Черноземье, где в 1975 году официально открылось специализированное детское онкогематологическое отделение. Там лечились дети с лейкозами и с другими злокачественными проблемами. Прежде заболеваниями крови занимались педиатры, и диагноз «лейкоз» был чаще всего приговором. Процент излечения в те времена - не больше 5-7 процентов. А потом в 90-е годы гематологи получили возможность использовать европейские технологии в лечении онкологических заболеваний у детей. Началась перестройка, границы с Европой открылись. В 1991 году по специальной немецкой программе в областной детской клинической больнице №1 было организовано областное специализированное онкогематологическое отделение. Оно было оснащено немецким оборудованием. В терапии наших маленьких пациентов появились новые протоколы лечения, и это уже тогда, в середине 90-х, позволило добиться выживаемости детей с любой онкопатологией до 65-70 процентов. В дальнейшем программы лечение совершенствовали, так как активно развивалось иммунологическая и генетическая диагностика лейкозов и других онкологических заболеваний. Появилось много новых препаратов и других возможностей в терапии. А диагноз острый лимфобластный лейкоз уже стал не приговором - в России и в нашем отделении теперь вылечивается 85 процентов детей с этим заболеванием. Но, к сожалению, мы не можем вылечить всех наших больных. Для некоторых показана интенсивная специфическая терапия, в том числе донорская трансплантация костного мозга. В этом случае наш пациент направляется для лечения в федеральную клинику.
- Становится ли случаев детского рака больше, и если да, то с чем, на ваш взгляд, связан такой рост?
- Тенденция к росту есть, но совсем небольшая. И мы пока не можем однозначно связывать это с эпидемией ковида, с экологическими проблемами или чем-либо ещё. До конца наука не знает, что именно запускает канцерогенез в детском организме. По какой-то причине появление раковых клеток выходит из-под контроля иммунной системы. Речь идёт о генетических поломках в самой клетке.

- Значит, нужно разобраться в генетике?
- Мы широко используем молекулярно-генетические исследования, которые проводятся в федеральных онкологических центрах Москвы. Это позволяет в ряде случае наряду с химиотерапией применять так называемые таргентные препараты, воздействующие на поломку на генетическом уровне. Сегодня одним из направлений развития детской онкологии является именно изучение генетического материала раковой клетки и создание новых препаратов, точечно воздействующих на эту клетку. Ведь детская онкология входит в одно из приоритетных направлений государства, поэтому возможностей у нас становится всё больше. Ещё не так давно нам было сложно использовать в лечении так называемые офф-лейбл препараты - то есть официально не утверждённые для детского возраста и потому не входящие в клинические протоколы. Сегодня мы имеем новые приказы, которые позволяют назначить коллегиально ребёнку эти препараты, так как они показали большую эффективность именно в детской практике. И ещё теперь мы имеем возможность лечить пациентов в детском отделении до 21 года - если он поступил к нам в детском возрасте, поскольку «детские» протоколы лечения рака являются очень эффективными.

- Какие онкологические заболевания чаще всего сейчас выявляются именно в детском возрасте?
- На первом месте по распространённости детской онкологии стоят острые лейкозы. На втором месте - опухоли центральной нервной системы.
- Это как-то связано с засильем гаджетов в жизни современного ребёнка с самого раннего возраста?
- Научных исследований в этой сфере нет. Но, наверное, «нежная» центральная нервная система ребёнка особо реагирует на постоянное нахождение в ауре телефонов, планшетов и других гаджетов. Мы пока не знаем, какие перестроечные процессы в такой зоне высокого напряжения могут происходить.

- А вы как думаете?
- Я думаю, это связано со всей нашей современной жизнью. Мы ведь все сейчас живём в этой зоне разнообразных излучений и особого напряжения. И весь этот фон не может не влиять на здоровье. Но чтобы доказать прямую связь между гаджетами и заболеванием, надо заранее в референтной группе детей с опухолевыми процессами отслеживать, сколько времени они пользовались сотовыми телефонами, сколько сидели за компьютером или у телевизора. Но это ничего не даст, потому что наверняка столько же времени за гаджетами проводят и здоровые дети. А сбой в организме нашего пациента могли дать ещё и инфекционные заболевания, неблагополучная экологическая обстановка, стрессы.
- Почему все-таки во всем объёме детской онкопатологии на первом месте находятся именно заболевания крови?
- Потому что в детском возрасте иммунная система ребёнка совершенствуется и является тонким моментом для воздействия всех факторов. А вот причина появления «взрослых» лейкозов может быть другая, у них другие генетические особенности.
- Из всех врачебных специальностей ваша – наверное, самая драматичная. Можете рассказать о наиболее сложном случае из практики?
- Профессия детского онколога очень многогранна. Так как наши пациенты болеют годами, врач становится уже другом семьи, помощником и невольно вовлекается в её жизнь и быт. Дети получают интенсивную химиотерапию, сталкиваются с тяжёлыми осложнениями, которые должен знать детский онколог, предупредить, принять меры. Поэтому он должен обладать максимальным количеством знания в педиатрии. Но при этом очень важен настрой самой семьи на выздоровление ребёнка, и вот в этом психологическом процессе тоже участвует детский онколог. Да, большинство детей с онкологическими заболеваниями сегодня выздоравливает, и мы детские онкологи, радуемся нашей победе. Но если заболевание оказывается фатальным - переживаем вместе с семьёй. Одна из самых сложных задач детской онкологии – попытаться сохранить качество жизни такому ребёнку, подбирая то или иное лечение.

- Если ребёнок выздоравливает, диагноз не снимается?
- Осложнение от высокодозной химиотерапии могут быть отдалёнными, и пациент должен наблюдаться длительно. Таким выздоровевшим детям нужна дальше социальная психологическая реабилитация. Эти дети, столкнувшись с тяжёлым заболеванием, становятся мудрее, по-другому начинают смотреть на жизнь. Такое ощущение, что они разгадали самый главный смысл жизни. Кстати, обычно они очень хорошо учатся, развивают свои знания. В реабилитации таких пациентов нам очень помогает благотворительный фонд «Добросвет» - детям он помогает интегрироваться в жизнь.
- Испытывает ли ваша служба трудности с трансплантацией костного мозга в случае необходимости?
- Трудностей нет. Если пациент нуждается в трансплантации костного мозга, то он направляется в специализированные трансплантационные центры Москвы и Санкт-Петербурга. И здесь одна из проблем – найти совместимого донора. Иногда трансплантационный центр обращается в международный регистр для поиска доноров.
- Что вы испытываете, когда впервые говорите родителям о диагнозе?
- Это, наверное, один из самых сложных вопросов детской онкологии. Родители разные. У каждого своя личная история, социальная ниша, своё понимание случившегося. Здесь надо повести разговор так, чтобы с первой встречи детский онколог и родители заболевшего ребёнка были полными союзниками в борьбе с заболеванием. Зачастую сложно подобрать слова - у нас тоже есть эмоции, мы переживаем за ребёнка как врачи, потому что знаем, что ему в процессе лечения предстоит. Помогает победить рак это понимание, что все мы – и врачи, и ребёнок, и его семья теперь в одной упряжке.

- Некоторые родители при возможности стремятся на лечение в другие страны – в Германию и Израиль. Что вы им говорите?
- То, что мы сегодня используем такие же эффективные схемы лечения, как в Германии и Израиле. Впервые диагностированное онкозаболевание – это тяжёлое состояние ребёнка и требование неотложной терапии. Чтобы уехать на лечение в ту же Германию, сначала нужно найти возможности. А в нашем случае промедление смерти подобно. Но мы никогда не возражаем, если родители намерены проконсультироваться у зарубежных специалистов. Мы полностью открыты к общению и всегда предоставим все необходимые документы для этого.
- Наталья Борисовна, а что бы вы посоветовали всем родителям? Не только ваших пациентов.
- Наверное – ещё более внимательного отношения к своему ребёнку. Надо постараться быть полностью вовлечённым в его любое состояние, настроение. Да, сейчас многим не до этого. В садике и школе замечаний нет, малыш накормлен, одет, всем обеспечен, на тренировку сходил, уроки сделал – и уже хорошо. И всё-таки надо остановиться и буквально всмотреться в своего ребёнка: как он ест? какое у него настроение? Испытывает ли он слабость, активный ли постоянно? В этом специфика детского рака – слишком мало может оказаться симптомов, которые напрямую указывают на начало развития злокачественного процесса. Особенность детского организма такова, что болезнь может активно развиваться даже при неплохом самочувствии ребёнка. И детскому онкологу приходится диагностировать уже запущенные случаи, и связано это именно с особенностями детского организма. В общем, я бы посоветовала родителям стать ближе к детям – не только в плане материальной, физической заботы, но и на уровне особых душевных настроек. Слышать, слушать, чувствовать своего ребёнка.
- Работают ли в вашем отделении волонтёры?
- Всю волонтёрскую работу у нас взял на себя фонд «Добросвет». Они специально обучают всех желающих новичков, как помогать именно нашим детям.

- Вы столько лет работаете в детской онкологии. А как же выгорание?
- Профессиональное выгорание, конечно, есть, как у каждого детского онколога. Но дети – люди особенные. И когда мы видим ребёнка, победившего рак, его эмоциональный настрой – это даёт силы работать дальше и оставаться в профессии.
- Последняя прочитанная вами книга?
- «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. В редкие свободные минуты стараюсь читать художественную литературу, которая тоже даёт много сил.
- Профессия детского онколога вас тоже укрепляет в религиозном мироощущении?
- Сложно работать в экстремальных профессиях без веры. Она помогает выбирать правильный путь в диагностике и в лечении всех пациентов, в том числе самых тяжёлых, чтобы максимально помочь больному ребёнку.