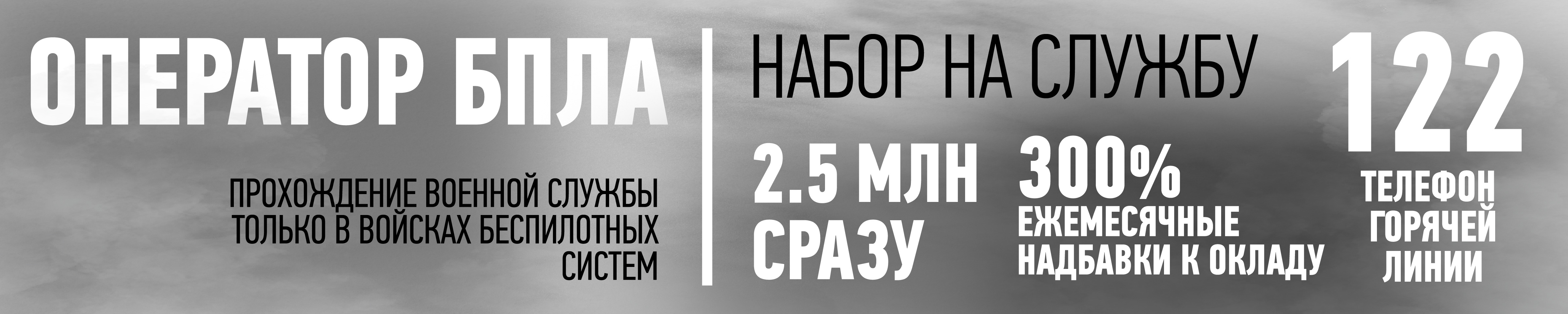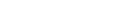Отсюда каждое утро военнопленные стройными рядами шли под конвоем на работы. Те, кто еще год назад почти полностью разрушил наш город, теперь приступили к его восстановлению. Но их жизнь в Воронеже – это еще и рассказ о самих воронежцах. О негромком подвиге милосердия, несмотря на все беды, которые еще совсем недавно бывшие оккупанты принесли в наш город. Об этом редакция поговорила с известными историками, краеведами и очевидцами тех событий.
Процент нормы
Порядка 25 тыс. немецких, румынских, венгерских военнопленных в 1944 году стали жителями нашего города и восстанавливали его вплоть до начала 50-х. Они работали на промпредприятиях, а также восстанавливали многие знаковые для Воронежа здания: кинотеатр «Пролетарий», Госбанк, Дом связи, магазин «Утюжок», Дом книги, гостиницу «Воронеж», хлебозавод №1 по улице Фридриха Энгельса, железнодорожную поликлинику, общежитие мединститута.
Заработная плата военнопленных зависела от процента выполнения нормы. Выполняющие 50% получали 10 руб. в месяц, 80% – 15 руб., 100% – 25 руб., перевыполнявшие норму выработки – 50 руб. Отдельные расценки существовали для командиров отрядов и специалистов.
Военнопленные трудовых лагерей, получая заработную плату, пользовались услугами продовольственных ларьков, располагавшихся на территории зоны. В ассортименте ларьков были продукты питания, табак, туалетные принадлежности, канцелярские товары.
Русская печь и будущая дача
«Нас стали отправлять на стройки жилых домов на правом берегу. Я помогал класть печи, был плотником. Еще меня пытались научить токарному делу. На проспекте Революции была фабрика, на которой делались шлаковые конструкции для быстрого возведения жилого фонда города. Для меня это было интересно. На этом предприятии стояли печи, они не функционировали, и мы в них спали, чтобы сэкономить себе путь по полтора часа утром и вечером. Эта работа помогла мне – благодаря ей я потом смог дома построить себе дачу», – из воспоминаний бывшего военнопленного Гюнтера Венцена.
«Я работал слесарем на заводе «Синтезкаучук». Также среди наших были сварщики и кузнецы. Мы качественно очень работали, выполняли норму на 130%. В 1947 году мы стали получать немного денег. У нас появилась возможность к небольшому рациону купить еще хлеба или кефир. В Воронеже мы не голодали, конечно. Нас кормили три раза в день – каша, супы, рыба», – из воспоминаний бывшего военнопленного Берхарда Циммермана.

«Рядом с местом, где строился завод имени Калинина, находился лагерь для военнопленных, в котором жили румыны и немцы. Румыны выходили по утрам молиться. У них был такой порядок, а немцы стояли в сторонке и иронически хихикали… Но самое большое мое впечатление – при знакомстве с юными пленными, 16-летними мальчиками. Болели они очень сильно. Я присаживалась к одному такому на койку: «Ну почему вы не хотите есть?» А лагерная пища ему, конечно, надоела. Он хотел фруктов. И тогда я вопреки запрету лагерного начальства шла на рынок и покупала яблоки», – из воспоминаний воронежского врача Евгении Леоновой.
(воспоминания Гюнтера Венцена, Берхарда Циммермана и Евгении Леоновой редакции представил из своих архивов воронежский краевед Владимир Елецких.)
Дама в гимнастерке и яичко
– Немцы работали и на восстановлении здания нашего мединститута. Парторг мединститута, бессменная Анна Филипповна Борисенко, одетая по моде тех лет – гимнастерка, юбка, сапоги, с прической под гребенку – с утра до вечера находилась в институте, всем и всеми командовала. Немец робко спросил: «Почему эта дама, владелица такого большого дома, одета так бедно?» – поделилась с редакцией старейший воронежский врач, представитель знаменитой династии Русановых Татьяна Николаевна Русанова.
– Жили они в развалинах бывшей областной больницы, в здании, где сейчас стоит памятник «Ротонда». Поражал порядок и чистота в их лагере. Кормили их хорошо. Одеты они были в свою форму без знаков различия. На работу их водили колоннами в сопровождении автоматчиков. Но это, вероятно, было несложно, потому что бежать или нарушать порядок никто из них и не пытался. Шли они весело, строем, с песнями и даже позволяли себе петь «Хорст Вессель». Если кто-то из пленных заболевал, их лечили в областной больнице, ныне больнице №3. Однажды моя мама, работавшая врачом в этой больнице, спасла раненого офицера СС, которому грозила физическая расправа со стороны русских раненых. У пленного немца был гнойный аппендицит, и он сказал, что ему нечем платить за операцию. «За вас советская власть заплатит», – ответила ему мама. После операции, когда тот очнулся, один из наших раненых солдат, которого еще недавно пришлось утихомирить, почистил и протянул ему вареное яйцо. «Яволь?» – осторожно спросил пленный. «Да яво, яво ешь – яичко!», – ответил ему наш солдат, – вспоминает Татьяна Русанова.
Намоленный початок
«Пленение на Востоке» – так называется скрупулезное исследование немецкого историка Эльке Шерстяной – почти девяносто интервью с соотечественниками, побывавшими в советском плену. Эти живые воспоминания Эльке Шерстяной презентовала в Воронеже в далеком теперь 2016 году. На русский язык книга переведена профессором ВГУ Людмилой Гришаевой.
«Каждый раз мы спускались по лестнице на перевязку сквозь плотный строй раненых русских солдат. Они не произносили ни слова, стояла стена молчания. Но каждый из них держал в руке для нас что-нибудь: кусок бумаги для сигареты, кусочек сахару, кусочек хлеба… Это было странно, и этого никогда не забыть, – из воспоминаний о времени в воронежском плену Хайнца Вольфа, которыми он поделился с Эльке Шерстяной.
Из воспоминаний бывшего военнопленного в Воронеже Андреаса Шлегеля, предоставленных редакции Научно-образовательным центром устной истории:
– В маленьком домике на окраине Воронежа мне нужно было провести небольшой ремонт. Старая женщина попросила меня зайти и показала на сломанное окно. После того, как я закончил работу, она показала мне фотографии сына и мужа, погибших в войне против немцев. Я выразил ей свое сожаление и дал понять, что оказался на этой войне вынужденно, будучи ребенком. Она приняла это с полным пониманием. На прощанье я спросил, может ли она дать мне что-нибудь съедобное. Она ответила, что у нее самой еды нет. Но подарила мне початок кукурузы, оставленный за иконой. Початок с прошлого лета был ею намолен, поэтому должен был дать мне двойную силу. В мастерской я почистил его от пыли, сварил и съел. Вновь русский народ проявил ко мне больше, чем просто симпатию.