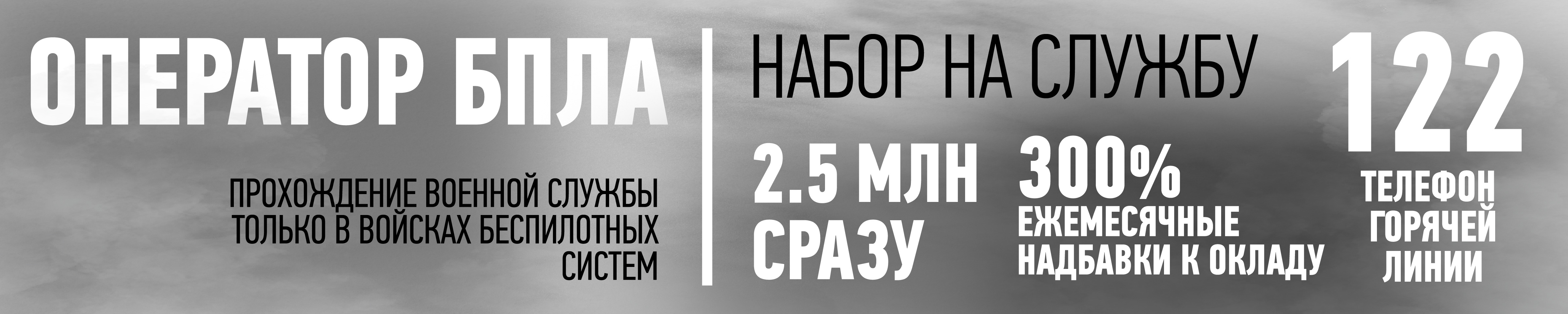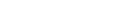Если вы читали предыдущие части цикла «Дом, в котором я жила», то, конечно, знакомы с моим домом детства. Это маленький двухэтажный домик на восемь квартир в пригороде небольшого райцентра, жизнь в котором для меня, маленького человека 70-80-х годов, представляла целую Вселенную. Дом, построенный в 1953 году, стоит и сейчас, и, наверное, переживет и более молодых своих сородичей. Но мы выросли, и Дом тоже стал другим.
Мелочи цивилизации
Дом менялся вместе с обществом – началась перестройка, а потом и вовсе разрушилась страна с гордым названием Союз Советских Социалистических Республик. Вместо социализма и безнадежного ожидания коммунизма мы стали двигаться по пути построения капитализма, решив, что именно в капитализме нужно искать светлое будущее. Несомненно, эти процессы не могли не повлиять на психологию Дома. Я пишу сейчас Дом с большой буквы, потому что рассуждаю о нем как о живом существе со своими чувствами и переживаниями.
Сначала в Дом пришла цивилизация, в смысле – удобства. В самом начале девяностых в квартиры провели холодную воду и канализацию. Газ все еще был баллонный, а потому водогрейную колонку поставить было нельзя. Отопительные титаны на дровах тоже невозможно было втиснуть в готовые квартиры. Но походы в общественные бани или к друзьям, у которых есть ванна, уже были непопулярны, люди разобщились и каждый начинал жить на своей территории, ограниченной стенами квартиры.
Покупка электрического водонагревательного котла во времена, когда на полках в магазинах было шаром покати и мы радовались чудовищного размера ножкам Буша, была сродни покупке космического корабля. Поэтому кто как мог стал придумывать, как появившуюся в квартирах воду нагреть.
Мои родители впрок установили ванну, но без подачи горячей воды наполнить ее было проблематично. Поэтому пользовались только душем, а воду нагревали тэном в специально установленном металлическом баке.
Это была очень ответственная процедура – правильно смешать воду в баке, который располагался над ванной. Водонагревательный тэн, по сути, тот же кипятильник, и регулировать температуру никак нельзя. Нагреваешь воду «на ощупь», почти до кипения, а потом пускаешь в бак холодную, где происходит смешивание. Искупался – долей бак доверху, чтобы мог купаться следующий.
Я уже не жила в этом Доме, потому что окончила школу и уехала в Воронеж, но каждый мой приезд был для меня приятным открытием – Дом преобразовывался и старался, как бы это точнее сказать, «соответствовать».
Водяная колонка на улице еще простояла много лет, несмотря на то, что у каждого в квартире уже была вода. Ею пользовались иногда, чтобы полить маленькие огороды, помыть обувь или даже машину.
Цыгане тоже не ходили сюда за водой, потому что давно уже не заезжали в нашу местность – после Олимпиады-80 я ни разу не видела кочующих.
Спустя несколько лет после прихода водопровода в Дом колонку убрали. А с ней ушла часть ритуалов Дома – стирка на улице, чистка рыбы, подготовка обуви к пионерлагерю.
Куда уходят домовые
В начале 2000-х, на гребне всероссийской газификации, в дома был проведен природный газ. Параллельно с подключением газа Дом отключили от центрального отопления, которое шло от ведомственной котельной детской колонии, вскоре ставшей женской колонией.
С приходом газа были разрушены последние печи, которые у некоторых еще оставались «на всякий случай», потому что для АОГВ потребовались дымоходы, да и место, где поставить котел, тоже нужно было найти на восьмиметровой кухоньке.
Я не знаю, куда делись все домовые после разрушения печей, надеюсь, что Дом они не покинули и смогли пристроиться жить за газовыми котлами.
Нагишом
Самое большое потрясение Дом претерпел, когда было решено снести крыльцо. Это произошло примерно в 2012 году. Квартиры давно были приватизированы, жильцы сами заботились о благоустройстве своего Дома и решили обновить его внешне – покрасить.
Старое крыльцо, по сути местный клуб, в картину обновленного Дома никак не вписывалось – нужно было либо строить новое, либо попросту отказаться от него.
Время наступило такое, что вечерние шоу по ТВ заменили людям такие же «шоу» на улице, на крыльце, да и счет деньгам все знали – он был уже не советский: только-только отошли от невыплат пенсий и зарплат. Никто не хотел тратиться на никому не нужные посиделки.
И крыльцо снесли. Первое время, когда я приезжала к родителям, я не могла привыкнуть к новому виду – мне казалось, что Дом стоял голый, как будто бы с него сняли рубашку и нагишом выпустили на улицу.
А позже Дом попал в программу капремонта, и стены обшили сайдингом, которым отделали в последующие годы соседние двухэтажные дома. Наш Дом стал такой же, как и все остальные, может быть, все-таки чуть более ладный, потому что натура у него такая была, настроенная на лад.
Другие люди
Почти все соседи из моих воспоминаний к настоящему моменту уже умерли – ведь они жили в Доме с самого момента постройки. В их квартирах живут теперь их дети или же въехали совершенно чужие для меня люди, со своими привычками, со своими взглядами на то, каким должен быть Дом, и это уже другие взгляды, совсем не те, которые были у моих соседей в те ставшие далекими годы. А несколько месяцев назад ушла тетя Оля, которая была хранителем души нашего Дома – самовара.
Тем не менее Дом может похвастаться долгожителями. Хотя сто лет здесь не прожил никто, но возраст многих – под девяносто – не был редкостью.
Дети выросли
И все-таки что изменило Дом – это выросшие дети. После моего поколения последний всплеск активной жизни на протяжении нескольких лет Дом переживал еще в летнее время, когда к моим родителям приезжали на лето внучки – моя дочь и племянница. Вместе с Аней, которая жила в этом доме с родителями, и другими друзьями и подругами из соседних домов они какое-то время поддерживали этот необыкновенный эгрегор Дома, в котором каждый день что-то происходило. Наслушавшись наших рассказов, они даже пекли картошку за погребом, как когда-то делали до них мы и более старшие мои соседи.
Наши дети выросли. Новых детей в Доме не появилось, и он замер, заскучал, может быть, даже затосковал, став обычным зданием, оставив лишь теплые воспоминания о себе у тех, кто в нем когда-то жил.